Ильф и Петров неожиданно для себя вышли в гении. Не сказать чтобы у них была заниженная самооценка — оба были бешено самолюбивы и вдобавок достаточно критичны к литературе соцреализма, которую в промышленных количествах производили их современники. И сами они, и те коллеги, чьё мнение заслуживало внимания, понимали: дилогия о Бендере — то, чем будет гордиться не только советская, но и русская проза, а что это станет классикой (и, может быть, вообще единственным, что останется от всей прозы рубежа 1930-х, когда уже замолчал Бабель и ещё не был написан «Мастер») — это мало кому приходило в голову. Набоков считал «Стулья» и «Телёнка» единственным, что дала советская литература; а у Набокова вкус был.
И вот интересно, что Ильфа и Петрова он поставил выше, скажем, «Зависти», хотя Берберова говорила про Олешу: «Всё мое поколение было оправдано». И выше Бабеля. И любил их больше, чем Михаила Зощенко, о котором отзывался весьма комплиментарно. Короче, они с Верой оба по-настоящему ценили этих странных одесситов, чей сатирический вроде бы роман, печатавшийся в тонких журналах и толком не отрефлексированный в критике, стал сегодня предметом анализа лучших филологов России: Юрия Щеглова, написавшего детальный — и тоже уже классический — комментарий; Александра Жолковского; Михаила Одесского, так счастливо совпавшего по литературным интересам с собственной фамилией… Взяли и стали таким себе Толстоевским, той самой классикой, над которой сами издевались. Только памятника ещё нет, потому что их двое, бронзы надо больше; но чует моё сердце, обязательно будет. И к этому памятнику я лично положу очень большой букет.
Как это вышло, то есть почему они оказались такими важными писателями и благополучно пережили Советский Союз? Я заметил с тоской, что мало кто сейчас читает Зощенко, хотя в 1920-е и даже 1930-е он был абсолютно хитовым. Бабель остался главным образом «Одесскими рассказами», и то в мюзиклах да в меню одесских ресторанов; его опошлили больше всех, хотя не сказать чтобы он не давал к тому оснований. С Олешей вообще что-то странное, мы это рассмотрим в отдельной статье: он был гением только пять лет, а всё, что он писал потом, недостойно разговора, кроме сотни фрагментов из записных книжек, — и гением его считали тоже очень недолго. Не то чтобы разочаровались, а как-то он канул. Кто сегодня читает «Зависть»? Бендер уцелел, а Кавалеров забыт, хотя Бендеров сегодня почти нет, а Кавалеровых полно в любую переломную эпоху. Бендер всегда с нами, а Олеша — с немногими, в основном со специалистами, и вышло так вовсе не потому, что Бендер — попса. Напротив, он стал классикой именно тогда, когда до уровня Ильфа и Петрова доросла масса: в 1950-е — 1960-е. Когда народ стал интеллигенцией — или, по Солженицыну, образованщиной.
Почему так получилось? Рейтинг цитируемости. Массовый тираж, даже и любовь масс — сами по себе ничего не решают. Вон у Донцовой, допускаю, есть массовые тиражи, не просто накрученные, а обеспеченные массовым запросом: людям нужна иногда жвачка для глаз. Но цитируемость Донцовой равна нулю. Литературой является то, что уходит в язык: Окуджава заметил как-то, что в фольклоре остаётся только качественное — потому что качественно то, что многими поётся, то, что ко многим приложимо. Если оно многими исполняется — значит, универсально, значит, сказано нечто верное и общечеловеческое.
Ильф и Петров — в 1930-е в узком кругу, в 1960-е уже всенародно — стали настоящей кладовой паролей и диагнозов, определений и убийственно смешных реплик. Мне могут возразить: а как же нелюбимый вами Довлатов? Он тоже ушёл в язык! Отвечу: откуда взял, туда и ушёл. Большинство удачных шуток Довлатова не его. Герои Довлатова не становятся нарицательными: когда мы говорим «Альхен, голубой воришка», мы имеем в иду конкретный тип, оказавшийся бессмертным. Довлатов рисует в лучшем случае карикатуры. Мне опять возразят (постоянно все возражают, что ты будешь делать), что и Ильф с Петровым не сами выдумали «красивого и толстого парнишу» — это словечки Аделины Адалис, ныне, увы, забытой, а большой была поэт. И «ключ от квартиры, где деньги лежат» — тоже было ходовое выражение в кругу Мыльникова переулка, где собирались у Катаева сотрудники «Гудка», кружок одесских и московских неистощимых, как говорится, остряков. Отвечу и на это: положим, реплики Бендера — равно как и самое его имя, взятое у Остапа Шора, — принадлежали этому узкому кружку одесситов и частично москвичей, но цитируются-то в основном не они, а то, что Ильф с Петровым придумали сами. Реплики Бендера — «Вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро», «Кто скажет, что это мальчик, пусть первый бросит в меня камень», Нью-Васюки, дети лейтенанта Шмидта, «Воронья слободка» — всё это изобретено, а не заимствовано; «сермяжная правда» Васисуалия Лоханкина и «Хо-хо!» Эллочки-людоедки, равно как и «гомосексуализм» Фимы Собак, — всё это давно часть языка. Жолковский написал даже, что Ильф и Петров потому так цитируемы, что описали почти все советские локации и придумали остроты на любые случаи, то есть приложимы ко всей здешней повседневности (Щеглов вообще назвал дилогию «энциклопедией советской жизни»).
Похоже на то, но ещё больше похоже, что они придумали метод, мировоззрение — а уже оно в приложении к любым реалиям, хоть советским, хоть постсоветским, даёт замечательный художественный результат. Проблема именно в том, что мировоззрение это почти нигде у соавторов прямо не декларируется, его приходится восстанавливать и невозможно имитировать. Вот почему ни у кого не вышло подражания или продолжения бендерианы — но это самое сложное, и потому об этом в конце.

А в начале — о том, как статус классиков был верифицирован окончательно. Сразу скажу, что писать об Ильфе и Петрове «вообще» — задача неисполнимая, по-хорошему надо бы заняться ими всерьёз, сообразно этому новому статусу, и выпустить капитальную монографию в серии ЖЗЛ, чего до сих пор так и не сделано. Мы рассмотрим только некоторые сюжеты, почти не касаясь биографических подробностей: все и так знают, что Ильфа звали Илья Арнольдович (Арьевич) Файнзильберг, а Петрова — Евгений Петрович Катаев; что у них была разница в пять лет и что оба погибли в 40; что Ильф умер от туберкулеза, а Петров разбился в военном самолёте, возвращаясь с фронта; что их сочинения, написанные поврозь, не выдерживают сравнения с совместными, хотя в конце концов они научились работать отдельно и написали так «Одноэтажную Америку» — но там было совместное путешествие и общий план. Ильф был по образованию инженером, поработал чертёжником и бухгалтером, Петров систематического образования не имел, зато имел опыт работы в угрозыске.
Про то, как Ильф и Петров превратились в одного писателя — даже не в соавторов, а действительно в некоего Ильфа-Петрова, который был значительно талантливее их обоих, — знают все благодаря мемуарам Петрова «Мой друг Ильф» (так и не дописанным) и «Алмазному моему венцу» Катаева. В действительности их совместное творчество началось ещё во время кавказской командировки 1927 года, куда их отправили писать сатирические репортажи. Известно, что выдумывали они вдвоём, а записывал Петров с его каллиграфическим крупным почерком; что за годы работы, как идеальные супруги, они стали похожи внешне, но так и не перешли на «ты». Короче, с внешней стороной биографии всё вроде бы понятно, хотя история создания и публикации романов по-прежнему полна загадок. Об этой стороне дела мы говорить не будем, а поговорим о нескольких сюжетах, привлекающих сегодня особенно напряжённое внимание.
Первое доказательство нового статуса Ильфа и Петрова — попытка приписать их романы Булгакову, попавшему в классики сразу после публикации «Мастера и Маргариты». Такие попытки предприняли сравнительно недавно Ирина Амлински (филологического образования не имеющая) и Владимир Козаровецкий (выпускник МАИ).
«Плохую лошадь вор не уведёт», как писал Есенин; на плохую вещь соавторы не претендуют, а у победы всегда тысяча отцов, и сколько было попыток объявить плагиатом, скажем, «Гарри Поттера»! Желание атрибутировать всё великое кому-то одному — вещь очень частая: «Конька-Горбунка» написал Пушкин, «Роман с кокаином» — Набоков, «Тихий Дон» — Крюков, «Они сражались за Родину» — Платонов, «Гамлета» — Фрэнсис Бэкон, и даже у Ильфа есть в записных книжках острота на эту тему. «Илиаду» и «Одиссею» написал, как выяснилось, не Гомер, а другой старик, тоже слепой. Ну не может быть в конкретную эпоху более одного великого писателя. «Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные — обман и подделка».
Амлински с великолепной безапелляционностью, сокращая сущности в духе Фоменко и Носовского, упрощает то, что замечено было давно как раз профессионалами — Майей Каганской и Зеевом Бар-Селлой (последний, впрочем, как раз и приписывает Платонову военный роман Шолохова). Они ещё в 1984 году опубликовали в Израиле исследование «Мастер Гамбс и Маргарита», где выявили, в частности, множественные параллели между свитами Воланда и Бендера. (Дополняя эти параллели, заметим, что помимо явного сходства между Коровьевым и Паниковским, Балагановым и Азазелло, Бендером и князем тьмы есть прозрачная параллель между котом Бегемотом и Козлевичем, поскольку атрибутами Сатаны традиционно являются чёрные кот и козёл.) Есть и другие забавные сходства: между Бендером и Обольяниновым (из «Зойкиной квартиры»), между Обольяниновым и Воробьяниновым, между Воробьяниновым и безымянным пациентом из «Собачьего сердца», который выкрасился зелёной краской в надежде помолодеть… Последний эпизод, кстати, восходит к известному розыгрышу Куприна, выкрасившего зелёной краской одного филёра; этот случай явно был хорошо известен молодым фельетонистам. Ильф, Петров и Булгаков вместе работали в «Гудке» и вращались, как говорится, в одном кругу, в катаевской компании; все они были с юга — из Одессы и Киева, все приехали покорять Москву и зарабатывали журналистской подёнщиной, мечтая о большой литературе. Есть предположение, что сын судебного пристава Иван Арнольдович Борменталь срисован с сына банкира Ильи Арнольдовича Файнзильберга, тем более что Уэллс был любимым писателем всей троицы, и Булгаков писал «Собачье сердце», пародируя «Остров доктора Моро», а Ильф и Петров сочиняли «Светлую личность» как советскую версию «Человека-невидимки». У этой компании были общие вкусы, шутки и литературные приёмы, и любопытна именно разница в оценках и трактовках, а не вполне естественные сходства.
Михаил Одесский и Давид Фельдман, профессионально и глубоко изучающие романы Ильфа и Петрова, отнеслись к версии Амлински насмешливо, поскольку хорошо знакомы с рукописями, мемуарами и историей публикаций обоих текстов; элементарный языковой анализ показывает несовпадение булгаковской стилистики с творческим почерком Ильфа и Петрова. Известна подробная история замыслов «Стульев» и «Телёнка», есть аутентичные подготовительные материалы в блокнотах Ильфа, рукописи и варианты… Но разоблачать «Новую хронологию» или версию о булгаковском авторстве бендерианы бессмысленно: профессионалы и так всё понимают, а неофита не переубедишь. Но как объяснить слишком явное сходство «романа о дьяволе» с «Золотым телёнком»? Здесь нас ожидает тема куда более перспективная, чем попытка приписать Булгакову все шедевры совлита.

В самом деле, канотье Паниковского пересело на голову Коровьева, рыжий Балаганов превратился в рыжего демона пустыни, да и сам Воланд по манерам и жестам скорее Бендер, чем Мефистофель. С коммуналкой на Садовой он разбирается ровно в бендеровском стиле, да и сама коммуналка похожа на «Воронью слободку». Всё это можно, конечно, списать на влияние эпохи, но напрашивается мысль о том, что Булгаков явно и сознательно копировал приёмы Ильфа и Петрова, словно старался понравиться какому-то их поклоннику. Скажем больше: роман Булгакова вообще не был рассчитан на публикацию — в нём явно предсказана судьба книги, будь она чудом напечатана при жизни автора. Травля, доносы на «пилатовщину», разгром журнала, взявшегося это печатать, — и всё это за самую невинную, историческую главу! Вообразите последствия, если бы напечатаны были главы о Москве 1930-х, о МАССОЛИТе, о сдаче валюты! Нет, этот роман писался для узкого круга друзей и для одного главного читателя, которому и предназначался месседж: ты должен сделать добро из зла, потому что больше не из чего; ты часть силы, что без числа творит добро, не желая этого; мы даём тебе на это полную моральную санкцию, потому что с этими людьми и с этой страной иначе нельзя — им нужен монарх, и чем кровожадней, тем лучше. Но пожалей художника, береги его, ибо в нём твоё оправдание. Чтобы главный адресат понял это послание, оно должно было излагаться в его вкусе. И сходство с «Золотым телёнком» диктовалось тем, что этот роман Сталину нравился, и, значит, нужно было писать «Мастера» по тем же лекалам, которые уже заслужили верховное одобрение.
О том, что заслужили, было в Москве хорошо известно. «Телёнок», вышедший сначала в журнале «Тридцать дней» (1931), был переведён на три языка, вышел в Америке и Европе, но в СССР издание отдельной книги тормозилось. Считается, что вмешался Горький, но вмешательства Горького было бы недостаточно (он и Платонову пытался помогать, и Булгакова защищал — безрезультатно). На Фадеева, отказавшего соавторам в заступничестве, надавил глава Академии наук Бубнов, а за Бубновым явно стоял более влиятельный и, мнится, более внимательный читатель. К нему-то и апеллировал Булгаков.
Да, друзья! Романы Ильфа и Петрова очень нравились тому главному читателю, который воспринял главный месседж Бендера: с этими людишками иначе нельзя, необходим тот, кто будет их дурить — возможно, для их же блага. Да и вообще у Сталина был вкус, и он понимал, что эта книга — из лучших. Ильфу и Петрову прощались фантастические вещи — комплиментарная, совсем не идеологизированная книга об Америке. Письмо на верховное имя о том, что наше кино организовано неправильно, а вот в Голливуде — правильно (последовало разбирательство, киноначальство сумело оправдаться, но Ильфу и Петрову ничего не было). Весьма резкие фельетоны 1932−1936 годов. Они ничего для себя не просили, требования их были скромны: чтобы идиотов всё-таки окорачивали; и двум лучшим советским сатирикам повезло умереть не в застенках, да и проработочных кампаний против них не было. Поругивали, в том числе за «Одноэтажную Америку», но не травили. И Булгаков отлично знал, как угодить верховному читателю, — почему и построил роман, непосредственно ему адресованный, в полном соответствии с его вкусами.
Интересная задача, однако, не защитить Ильфа и Петрова от обвинений в плагиате (или, если угодно, в использовании Булгакова в качестве негра). Интересно проследить, как главный герой 1920-х, плут, трансформировался у двух столь разных авторов.
Почему плут оказался этим главным героем, понять несложно, хотя для читателя 1920-х (и особенно литературного чиновника) это был, конечно, шок: свершилась революция — а главные и лучшие романы пишутся не о пролетариате, не о крестьянстве и уж подавно не о Красной армии. Пишутся они о великом провокаторе Хулио Хуренито (у которого Великий комбинатор позаимствовал не только слегка переделанный титул, но и экзотическую цепочку имён). Об одесском жулике Бене Крике. О «скромном фокуснике советском, современном чародее» Иване Бабичеве, чей брат Андрей на его фоне — скучнейший тип, чиновник от пищепрома. Главный герой 1920-х годов — плут, а первым плутовским романом в истории было Евангелие. Плут не обманщик, он волшебник; все бестселлеры мировой литературы, от «Одиссеи» до «Гарри Поттера», написаны о плуте. Бендер — христологическая фигура, ибо плут смягчает, очеловечивает жестоковыйный мир Отца. Так Беня Крик вносит разум, логику и милосердие в дикий, хаотический и зверский мир Менделя Крика. Так Хулио Хуренито иронией и провокацией расшатывает большевистский суконный дискурс и измывается над всеобщей непримиримостью. Так в романе Юрия Берзина «Форд» мошенник выступал единственным симпатичным и, как ни странно, моральным типом. Евангельские тексты (сопоставляю не уровень, конечно, а жанр) всегда появляются в тёмные века, напоминая о том, что прекрасные времена были и вновь настанут. Так, в тёмной паузе начала 17-го века, между Возрождением и Просвещением, возникают два типологически сходных персонажа — Гамлет и Дон Кихот. Именно поэтому герой плутовского романа обязательно умирает и воскресает, что приходится проделать и Бендеру. Не зря он говорит о себе с горькой насмешкой: «Я как-то даже был однажды Иисусом Христом»…
И вот что интересно: для убеждённых советских патриотов Ильфа и Петрова этот герой — носитель добра и разума, единственный обаятельный человек на всю книгу. А для монархиста Булгакова он — Сатана, Воланд, тоже не лишённый обаяния, но авторской симпатии лишённый. Он всё-таки дух зла, хоть и не главный в иерархии. А любимый герой у Булгакова — Мастер, персонаж фаустианский и далеко не столь обаятельный. Для Ильфа и Петрова Бендер родной, он в некотором смысле их идеал, хоть они и осуждают его формально. А для Булгакова он — хоть и прообраз Сталина, но всё-таки чужой. Как Пилат.
И это неудивительно, потому что Ильф и Петров — модернисты, а Булгаков — приверженец архаики. Ильф и Петров всю жизнь странствуют, любят это дело («Америка» — далеко не единственный их путевой очерк), а Булгаков — домосед, любитель кремовых абажуров. Бендер именно модернист, противостоящий всякого рода унылой архаике вроде Союза меча и орала или ностальгиста Хворобьева. Булгаков демонстративно и последовательно тоскует по старине. Для Ильфа и Петрова Бендер — уничтожитель отжившего; Булгаков любит и ценит это отжившее. Вот почему Ильф и Петров сделали плута носителем добра и ума, а Булгаков — посланником ада, проверяющим, всё ли в Москве хорошо.
Ильф и Петров, в отличие от Булгакова, никакой тоски по прежним временам не знали, профессор Преображенский никогда не стал бы их идеалом, а основой их мировоззрения была не мистика, а ирония. Петров прямо написал в воспоминаниях об Ильфе: платформы не было, убеждения было негде взять, ибо прежняя этика разрушена. Вместо неё — всеобщая относительность, бесконечная сложность мира, в котором никто не прав. Ответом на глупость и жестокость эпохи было постоянное вышучивание; и это оказалась не худшая система. Вместо цинизма она привела, напротив, к поэтическому реализму, к высокому романтическому строю. Дивно молвить, но жестокие насмешники Ильф и Петров создали чуть ли не единственный философский и поэтический текст в 1920-е: ирония — это прежде всего требование хорошего вкуса. У Булгакова с хорошим вкусом проблемы, ирония не тотальна, а плут — всего лишь временный покровитель художника. Скажу больше: сцена бала Сатаны — вообще какой-то ликующий торгсин; очень многое в «Мастере» — осетрина той самой второй свежести, хотя есть там куски пронзительнейшие, до которых Ильфу и Петрову не допрыгнуть. Думаю, Булгаков играл на понижение вполне сознательно: ему нужен был конкретный читатель, который (при безусловной способности отличать хороший текст от плохого) был воспитан на несовершенных образцах. Ильф и Петров, кстати, никому не стремились понравиться, это у них вышло случайно. Но единственный эпос о 1920-х и начале 1930-х — пусть с вынужденным неупоминанием очень многих вещей — удалось написать именно им: они нашли точку зрения.
Эта точка зрения была эстетической — именно потому, что этическая исчезла; больше того, с точки зрения этики вообще невозможно описывать русскую революцию. Слишком многое было опрокинуто и вышло за грань интеллигентских представлений. Официальная религия вообще потерпела одно из самых позорных поражений в истории — и вера нарастала снизу. Христологические черты, которые так отчётливы в Хулио Хуренито с его интернациональным апостольским сборищем, как раз и стали возвращением к огненным евангельским ценностям — прочь от всяческого официоза. Хуренито и его последователи потому и стали главными героями 1920-х, что в условиях кризиса всех ценностей возвестили установку на иронию и милосердие (что сумел сформулировать только Фитцджеральд — но Ильф и Петров следовали этой установке, не формулируя).
Почему главными писателями 1920-х годов стали представители южной (или, в формулировке Багрицкого, юго-западной) литературной школы? Поясню: был краткий период торжества петербуржцев, они тут были главными с 1917-го по 1924-й. Смертельные удары этой школе были нанесены в 1921-м, когда был расстрелян Гумилёв, когда от ревмокардита и общего истощения погиб Блок, вскоре эмигрировал Андрей Белый — но оставались «Серапионовы братья». Именно в Петербурге написан главный роман этого семилетия — «Мы» Замятина, так и не прошедший цензуру, там же два года спустя — «Города и годы» Федина, последний роман петербургского периода и последняя удача Федина. В 1922 году уехал покровительствовавший молодым прозаикам Горький. В 1924 году в Берлине умер Лев Лунц, и серапионы фактически распались. И тогда эстафету приняла Одесса: в 1924 году Маяковский напечатал в «ЛЕФе» большую подборку конармейских рассказов Бабеля. Приехал из Одессы — после двух лет работы в «Маяке» — Паустовский. В Москву перебрался Катаев, он перетащил за собой брата, потом Багрицкого; звездой «Гудка» стал Олеша; из Владикавказа ещё в 1921 году приехал и впоследствии прибился к той же компании киевлянин Булгаков.
Найдутся люди, которые скажут: а, ну конечно, евреи выбрались в столицу и захватили все позиции. Олеша был поляк, Катаев и Петров — русские, дворяне; Булгаков и сам оставил в дневниках не особенно приязненные слова насчет… да и образ Швондера весьма красноречив — и, что самое печальное, точен. Так что еврейскую версию придётся оставить; периодически делаются попытки увидеть еврея и в Бендере — как же, ведь он сын турецкоподданного, а так называли эмигрировавших в Палестину евреев, но в Бендере всякая нация видит своего героя, ибо у победы, как сказано выше, отцов много.
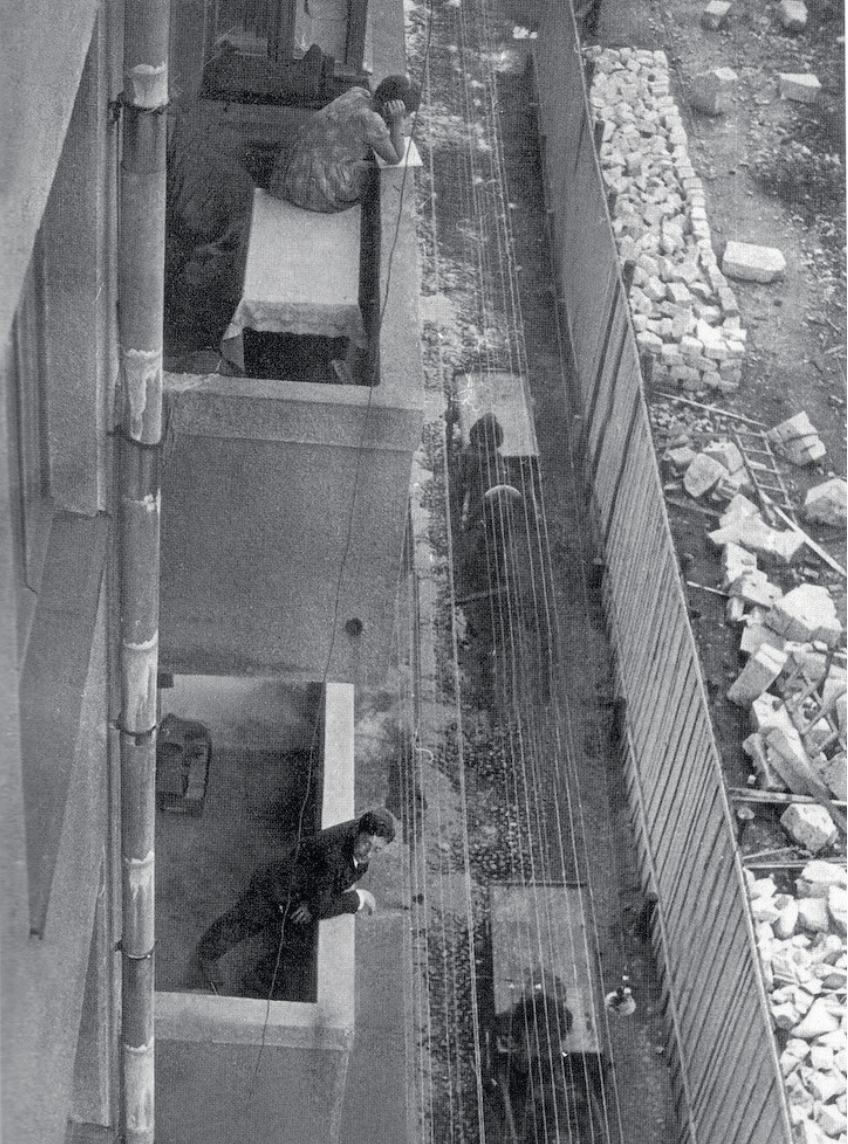
Почему же Одесса? Задним-то числом объяснение находится всегда. Ну, например: Москва и Петербург разгромлены, а южане необычайно живучи и корпоративны. Одесса в самые страшные годы жила всё-таки сытней, вспомним хоть «Чёрный погон» Шенгели; Чрезвычайка зверствовала, конечно, но и в этом зверстве был всё-таки налет корпоративности — спаслись же братья Катаевы, которых взяли в двадцатом! (Эта же корпоративность заставила Евгения Петрова не только поймать гимназического товарища Александра Козачинского, но и способствовать его освобождению, и подтолкнуть на литературный путь.) Где спасовали две столицы империи — там знамя подхватила третья, а все почему? А потому, что для Одессы герой-плут вообще более характерен, вся мифология города на это нацелена, особенно наглядно сказалось это на имидже Котовского — самого человечного героя Гражданской войны. Человечного не в смысле гуманизма, хотя зря кровь лить он вроде бы не стремился, а в смысле человечинки, милого бандитского колорита, без идей ной инквизиторской составляющей. В революции было много бандитов, Сталин в том числе, — и рядовому читателю бандит милее фанатичного, аскетичного Савонаролы. Победили бандиты — но мы ещё не знаем, что было бы, если бы победил Троцкий. И потом, кто знает Одессу, тот знает одесский культ формы: при кризисе содержания побеждает именно она. В Одессе ценили слог, эстетику, тут и бандитствовали красиво — как формировался Беня Крик, вам лучше всего расскажет старый, дореволюционный рассказ Куприна «Обида» (1906).
Я даже пересказывать его не буду, чтобы не лишить вас наслаждения от погружения в этот сугубо одесский текст с его бандитским обаянием. Да и «Гамбринус» того же года, того же Куприна многое сделал для формирования одесского мифа, а мораль «Гамбринуса» все помнят? Не могу без слёз читать этот финал: «И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, ещё не понятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки:
— Ничего! Человека можно искалечить, но искусство всё перетерпит и всё победит».
Вот! Кажется, тут я могу наконец сформулировать. Русская проза 1924−1934 годов пошла по пути Куприна, который в это время печально спивался в эмиграции; восторжествовал его герой — бродяга и бандит, более остроумный, живой и милосердный, чем ницшеанствующие босяки Горького. Восторжествовал волшебник из великого, недопонятого рассказа «Ученик» (1908). Щедрый, солнечный, вечно голодный и вечно насыщающийся юг, острый, насмешливый, вороватый, дружелюбный, опасный. Ильф и Петров выросли из Куприна именно потому, что у Куприна бандиты очаровательны, а праведники ненадёжны; потому, что Куприн космополитичен, как портовый город, наш русский Левант; потому, что Куприн — прямой потомок и лучший ученик Мопассана (и так же, как он, вызывал отеческие, нежные чувства у Льва Толстого, выше всего ценившего не мораль, нет, а художество!). Одесса уважала стиль! (Петербург выше ценил фабулу, ставшую для серапионов предметом культа, а Москва уважала ханжескую, фальшивую мораль.) И кроме стиля, в 1920-е годы не на что было опереться.

Кроме того, Одесса опиралась на горизонтальные связи — прочие перестали работать. Для Одессы важно верить «своим» — почему Катаев и смог перетянуть в Москву столько друзей, от Ильфа до Гехта. А все прочие идентичности в Гражданскую разрушились, что и показал столь наглядно Шолохов в «Тихом Доне»: ничего, кроме родства. Или землячества. Это самое архаичное, но и самое стойкое. Как говорил автору этих строк южанин Искандер, «социальное ярче, но национальное крепче». Кстати, тот же Искандер, объясняя засилье южан в российском юморе и сатире и не исключая себя из этого пёстрого южного сообщества, говорил: «Южанину на севере, где никто никому не рад, остаётся спасаться только юмором». Юмор, пояснял он, — след, оставленный человеком, заглянувшим в бездну и отползающим обратно. Россия в 1917—1921 годах заглянула в бездну.
Ильф и Петров — летописцы отползания. Кроме как в юмористическом жанре, эпопею о послереволюционной России никак не написать. Вот почему у реалистов этого периода ничего не получалось, а Маяковский точнее всего в «Клопе» и «Бане». Говорить обо всём этом всерьёз — или рехнёшься, или такая выйдет пафосная чушь, что ни один пролетарий читать не станет. У пролетариев, кстати, со вкусом всё в порядке — не то что у рапповцев. Пролетарии выучили бендериану наизусть, а рапповцев, пытавшихся не пустить «Телёнка» в печать, кто сегодня помнит?
Остаётся один роковой вопрос: почему третья часть задуманной трилогии осталась ненаписанной? Трилогия — своеобразное отражение гегелевской диалектики: так — не так — нет, всё-таки так, но несколько иначе. Почему-то в России никак не удаётся написать третью часть — «Мёртвые души» тому пример (вторую он всё-таки закончил). Впрочем, не только в России: «Илиада» и «Одиссея» есть, а третью часть — про новые странствия Одиссея и приключения в стране феаков — Гомер так и не сочинил. Есть Ветхий Завет, есть Новый, а Третьего, которого все так чаяли в начале 20-го века, таки ждём. И всё-таки третья часть возможна, просто для этого надо выйти в новое пространство, порвать круг родной Итаки. Одиссей успокоится, когда встретит народ, «удалённый от моря, еды не солящий». Их он научит мореплаванию, потому что туземец, увидевший его с веслом на плече, спросит: «Что за ЛОПАТУ несёшь ты?» И Чичиков успокоился бы, вырвись он за пределы уездной России — может быть, в Святой земле, которую специально посетил Гоголь. И Бендер должен оказаться в буквальном смысле за границей — за границей своих обычных странствий и представлений.
В некотором смысле третьей частью бендерианы стала «Одноэтажная Америка», где такие, как Бендер, по-настоящему развернулись. Но подлинную третью часть посчастливилось написать Юлиану Семёнову — его эпопея о Штирлице и есть новая христологическая проза, только в молодой Советской России таким героем был плут, а в старчески недоверчивой — разведчик. Бендер мог стать ТОЛЬКО разведчиком, больше ему никакого пути за границу не было. И он стал Штирлицем. Остап Сулейман-Берта-Мария превратился во Всеволода-Отто-Максима.
Те же черты — невозможность женщины, проблемы с отцом, смерть и воскресение, друг-дурак, друг-предатель; и главное — Штирлиц осуществил заветную мечту Бендера, попал в Аргентину, туда, где все в белых штанах. Никакой радости это ему, конечно, не доставило, потому что он оказался там вдали от Родины, да вдобавок в компании беглых нацистов; но всё-таки Родину лучше любить издали. Берег мой, берег ласковый… Лучше уйти в Аргентину, чем переквалифицироваться в управдомы. Где можем мы представить старого Бендера? Только на океанском берегу. Бендер — идеальный шпион: авантюризм, хватка, быстроумие, сила, даже своеобразный патриотизм, только лучше бы проявлять его там, где не идут грибные дожди и не зреют вишни… в саду у дяди Вани, в этом вишнёвом саду вечно умирающей русской интеллигенции… Бендер не русский герой. Вот почему его так любят здесь. Русские герои в своём вырождении — это Воробьянинов и Лоханкин, Персицкий и Изнурёнков; Бендер — это тот самый Хулио Хуренито, которого занесло в Европу откуда-то из Латинской Америки. Туда он и должен вернуться, как устремилась туда вся европейская литература, перенесённая на колумбийскую почву Гарсиа Маркесом.
Когда-то Андрей Шемякин задал вопрос: почему все анекдоты о Штирлице построены на каламбурах, языковых играх, хотя романы самого Семёнова написаны довольно-таки суконно? А вот потому: народ почувствовал, не формулируя, что Штирлиц — продолжение Ильфа и Петрова. Наш советский правильный оборотень, единственно возможный положительный герой времён заката советского мифа. Так что третий роман Ильфа и Петрова написан, в нём десяток томов, и чего-то стоит из всей этой эпопеи только один — и это не «Семнадцать мгновений весны», а сборник анекдотов про Штирлица. То есть про Бендера. Это конец, а где же пистолет?!


