В этих письмах, опубликованных историком Н. Э. Вашкау, — голод, страх, отчаяние и осознание нацистского обмана, приведшего их авторов к катастрофе.
Ефрейтор К. Мюллер, 18.11.1942, несколько дней до окружения: «Лучше не говорить родине всего. Скажу вам лишь одно: то, что в Германии называют героизмом, есть лишь величайшая бойня, и я могу сказать, что в Сталинграде я видел больше мертвых немецких солдат, чем русских. […] Пусть никто на родине не гордится тем, что их близкие, мужья, сыновья или братья сражаются в России, в пехоте. Мы стыдимся нашей жизни».
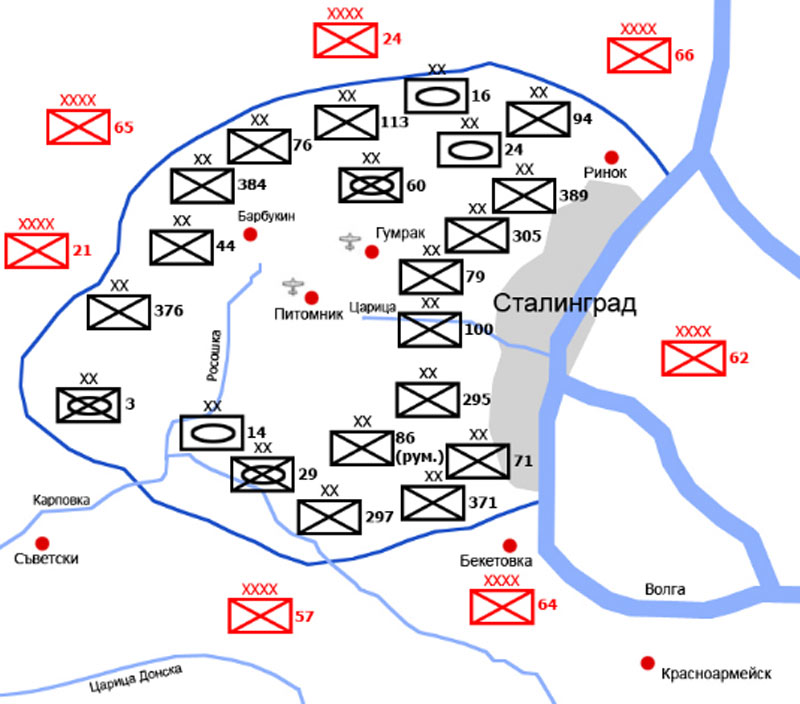
Из письма вахмистра Оппермана, 20.11.1942: «Хоть бы эта проклятая война поскорей кончилась или, по крайней мере, видно было приближение конца. Но, наоборот, с каждым днем делается все хуже. В Африке наши отступают. Здесь русские прорываются к нам в тыл; кто знает, что еще предстоит. Господа, несущие ответственность за события, вряд ли чувствуют себя очень приятно, впрочем, у них ведь нет совести. Людей посылают на убой за идею, граничащую с безумием».
Унтер-офицер Г. Кригер, 30.11.1942: «Отступление было ужасным. Тяжело ранен наш командир, у нас теперь нет ни одного офицера. Мне пока везет, но сейчас мне все безразлично. Когда-нибудь и до меня ведь дойдет очередь».
В конце ноября умы некоторых солдат и молодых офицеров еще занимали отвлеченные, политические и философские темы. Но чем дольше немцы находились в «котле», тем больше в их письмах было описаний ухудшающегося быта, питания и сообщений о погибших. Из-за цензуры написать о самом страшном было нельзя: «Если написать, как есть в действительности, то письмо надо уничтожить». Но и то, что решались открыть в письмах, показывает, как реальность войны и в армии, и в тылу подтачивала влияние нацистской пропаганды непобедимости и величия.
Ефрейтор Р. Ян, из письма невесте 27.12.1942: «Если бы хоть не было вшей и голода. Войне пора кончиться, но я в это мало верю; мы будем сражаться, пока последний человек не подохнет. Это у нас называется «героической смертью». […] Мертвецы — повседневное зрелище; испытывать сострадание мы разучились, любви больше не требуется, остались только животные инстинкты, жрем мы и живем все, как свиньи. […] Еще две недели, и мы все сдохнем. […] Несмотря на злополучное положение, в котором мы находимся, люди воруют друг у друга. Нет смысла писать тебе больше об этом; ты все равно не в состоянии себе представить, каково это в действительности. Я погиб».
Обер-ефрейтор А. Беец, из письма невесте 29.12.1942: «…никто мне не поможет. Как чудесно могли бы мы жить, если бы не было этой проклятой войны! А теперь приходится скитаться по этой проклятой России, и ради чего? Когда я об этом думаю, я готов выть с досады и ярости».

Унтер-офицер Ф. Штрунк, 31.12.1942: «…я нахожусь с моим отделением на расстоянии 50−60 метров от русского. Счастье, что он здесь пока не переходит в атаку. Нам обещали, что сменят нас к празднику; затем сказали, что обязательно сделают это еще в старом году, но все это — одни обещания. […] Как вояки, мы теперь никуда не годимся».
Обер-ефрейтор В. Бейссвенгер, 31.12.1942: «Сегодня для меня было бы величайшей радостью получить кусок черствого хлеба. Но даже этого у нас нет. Год тому назад мы смеялись, глядя, как русские беженцы едят дохлых лошадей, а теперь мы радуемся, когда у нас дохнет какая-нибудь лошадь!»

13.01.1943
«Вы, вероятно, слышите по радио о трудных боях, которые мы вынуждены вести каждый день, а эти атакующие танки теперь бесконечны. Дорогая Лизбет, мы часто спрашиваем себя, сколько еще мы сможем выдержать все это, иногда мы близки к отчаянию, но потом собираемся и поднимаем голову. […] Вчера мне опять снился дом, мы были на свадьбе, там были вкусные торты. Когда их приносили, я ел, и мне казалось, что никто за мной не наблюдает, и напихивал ими полные карманы. Ты еще сказала, что это нехорошо, я вымажу этой сладостью свои брюки. И как раз в тот момент, когда было так вкусно, пришел дежурный и разбудил меня на смену, и все это великолепие исчезло. Дорогая Лизбет, видишь, мне снятся все время дом и жратва, но это больше от голода. […] Наше единственное желание — насытиться».
Унтер-офицер Р. Шварц, из письма жене 16.01.1943: «Кроме пары ложек похлебки из конины, мы ничего не получаем, а если и выделяется иногда что-нибудь добавочного, то до нас это не доходит. Оно исчезает у начальника и его компании […] Если бы я знал, что в плену со мной будут обращаться хотя бы так, как с отцом в 1914-м, я сейчас же перебежал бы. […] А тебя я прошу: в будущем, при сборе пожертвований, с которыми к тебе приходят, вспоминай о моем письме. […] Надеюсь, эти строки дойдут до тебя; если нет, значит, я покончил счеты с жизнью, значит, меня поставили к стенке».

20.01.1943 г.
«Если нам придется пробыть здесь еще месяц, дело пойдет уже к весне. Тогда здесь, в России, уже все будет легче переносить. Сейчас же я все еще ношу теплый пуловер, который мне мама дала с собой. Он для меня до сих пор был незаменимым. […] Вшей, правда, в нем ужасно много, и их приходиться давить. Поэтому я его на ночь снимаю, чтобы эти мучители не слишком докучали».
20.01.1943 г., передовая
«Тысячи и тысяч бомб падают с шумом на наши укрытия. День и ночь идут атаки на земле и в небе. Танки с лафетами, на которых сидят по 10 человек, врываются на немецкие линии, чтобы разрушить оборону.
С фанатической силой обороняются немецкие пехотинцы против вражеской силы. […] Как быстро придется обещанная помощь, мы не знаем. Лозунги трещат везде, но насколько они…
Горе русским, если они пойдут на штурм. Горе им!»


